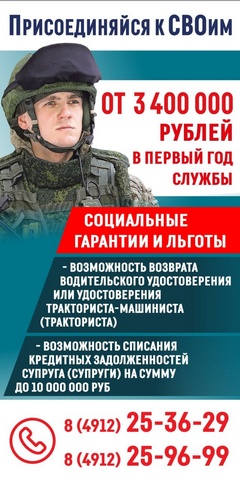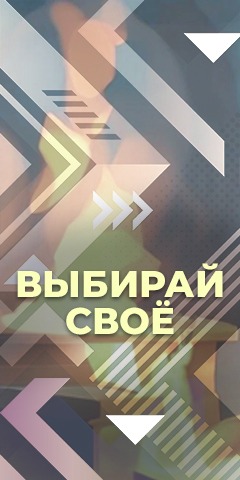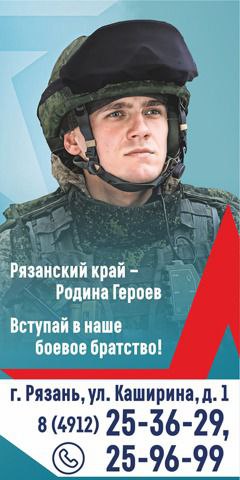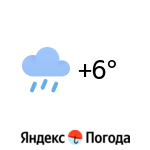Михаил Скобелев. Научный подвиг полководца. Часть 3 — Взятие Коканда
Мы продолжаем рассказ о научном значении походов генерала Михаила Скобелева. В первой части мы рассказали о Хивинской экспедиции, во второй — о большом походе «белого генерала» по Средней Азии. Сегодняшний рассказ — о взятии Коканда.
Итак, Хива пала, и для Скобелева наступили дни относительного покоя. Но для его деятельной натуры нужно было совсем другое. Человек войны – он и стремился туда, где идут бои. В 1874 году Михаил Дмитриевич инкогнито прибывает в Испанию, где шли сражения между царствовавшими Бурбонами и претендентами на власть, карлистами. Политика в данном случае абсолютно не интересовала Скобелева, но он с обстоятельно изучал методы партизанских действий сторонников Дон-Карлоса в горных условиях.
«Мне надо знать, что такое народная война и как ей руководить при случае, – говорил Скобелев писателю и другу Василию Ивановичу Немировичу-Данченко. – Можно сочувствовать или нет карлистским генералам, но только у них можно было учиться тактике народной войны».
Мудрый военачальник, Скобелев готовился к будущим войнам.
«У нас неизбежна война с соседями, – утверждал он, имея в виде европейские государства. – Они ворвутся к нам, это несомненно. Ведь мы против их крепостей строим только церкви и все стратегические пути заселяем лишь иностранцами. Чтобы выбросить вражеские войска, надо будет организовать позади народную стихийную войну».
Это ли не гениальное предвидение Великой Отечественной с ее широким партизанским движением в западных оккупированных регионах?!
Между тем в Туркестане вновь вспыхнули серьезные волнения, и Кауфман понимает, что для наведения порядка ему будут необходимы такие офицеры как Скобелев.
«В мае 1875 я прибыл в Ташкент, в распоряжение генерал-адьютанта Кауфмана, в чине полковника и флигель-адьютанта», – пишет Скобелев в автобиографии.
На этот раз «горячей точкой» стало Кокандское ханство. После неудачных военных действий против русских правитель Коканда Худояр-хан в 1868 году принял условия фон Кауфмана, согласно которым торговля с Россией в этом регионе приобретала более свободный, взаимовыгодный характер. Все договоренности выполнялись, и Кауфман отмечал:
«Дальнейшие отношения наши к Коканду теряют… характер внешних сношений и принимают значение домашних, более близких, чем существующие между двумя соседними губерниями».
Однако Худояр-хан своими притеснениями разозлил кокандцев, чем воспользовались его сыновья, претендовавшие на престол. Началась борьба за власть и военные столкновения. Этим воспользовались фанатики из числа мусульманского духовенства. Зазвучали призывы к «газавату» – войне против так называемых «неверных», главным образом, русских. При этом «газават» или «джихад» толкуется знатоками корана, скорее, как защита священных устоев и борьба, прежде всего, с внешней агрессией, социальными пороками, неверием и так далее. Но, в большинстве своем неграмотные, кокандцы взялись за оружие, стали нападать на русские торговые караваны и даже военные гарнизоны. Захваченных пленных восставшие предавали жестокой смерти.
В результате мятежа Худояр-хан лишился престола, его место занял коварный сын владыки, Насреддин. В крепости Махрам восставшими было сосредоточено войско численностью до 50 тысяч клинков, дошло до того, что кокандцы осадили Ходжент и стали угрожать Ташкенту. Это был прямой вызов русским.
Кауфман решил не медлить. Он собрал в Ташкенте отряд из 16 рот пехоты, 9 сотен казаков, 20 орудий и 8 ракетных станков, выступил к Махраму. Полковник Скобелев командовал конницей и шел в авангарде. Казаки Михаила Дмитриевича вовремя подоспеди к Ходженту, защитники которого едва выдерживали атаки кочевников. Разбив врагов, русские вошли в Кокандское ханство. Скобелев вновь шел впереди, встречая конные отряды восставших. Полковник умело применял знания современной тактики кавалерийского боя, использовал конную артиллерию.
22 августа 1875 года отряд Кауфмана подошел к крепости Махрам. Главнокомандующий отправил Скобелева обходить форпост кокандцев с флангов, а сам повел войско в обход. Отвлекающую роль играла артиллерия, которая начала бомбардировать крепостные стены. Одновременно русская пехота ворвалась на вал с тыла, развязав штыковой бой. Бегущих кочевников встретил Скобелев со своими казаками. Началась бешенная рубка, кокандцы сражались отчаянно. Под Скобелевым, который с саблей в руке был в гуще боя, убили лошадь. Шашка кипчака полоснула полковника по ноге, но он остался в строю… Вскоре казаки сумели сломить противника, погнали конницу кокандцев и одержали важную победу.
Мирное население ханства после падения Махрама признало русскую администрацию и отошло от борьбы. Однако, продолжали активно действовать отдельные отряды повстанцев, которые, в случае объединения, могли стать серьезной силой. «Белый генерал» по приказу Кауфмана преследовал мятежников с «летучим» отрядом пехоты и казаков. Главным в действиях такого подразделения была быстрота, и Скобелев нашел способ повысить мобильность отряда. Казаки скакали впереди, а вслед за ними двигалась пехота – на арбах! Михаил Дмитриевич настигал мятежников повсюду – и во всех боях был победителем. Самая кровавая – и снова победоносная для русских – схватка разгорелась около урочища Минг-Тюбе, где скобелевцы разбили текинцев и захватили их вооружение.
Мятежные кипчаки были вынуждены покинуть свои опорные пункты, в том числе древний город Ош. Первым из русских в сентябре 1875 года в Ош вступил Скобелев, преследуя со своим летучим отрядом вождя повстанцев Абдуррахмана-автобачи (полководца, военного правителя), поклявшегося на гробе Магомета вести борьбу с неверными. Позднее военными здесь был построен целый район, так называемый «Новый Ош», а первый парк в городе заложил Михаил Дмитриевич. Об этом говорится в «Приветственном адресе от жителей города Ош бывшему начальнику Ошского уезда полковнику В.Н. Зайцеву» (годы жизни 1851-1931). В парке были высажены серебристые тополя, дававшие прохладную тень в самые жаркие дни туркестанского лета. Деревья называли «скобелевскими»…
Из Оша Скобелев вернулся в Маргелан, а 22 сентября (3 октября) был заключен мир с текинцами.
«Со взятием Махрама дорога в Коканд была открыта, – пишет Н.Н. Кнорринг, – после набега Скобелева на Минг-Тюбе… были очищены пути к Намангану, который сделался аванпостом движения русских к Кашгару. Начальником русского управления в Намангане и командующим войсками Кауфман назначил Скобелева, получившего за бой под Махрамом генерал-майора с зачислением в свиту».
Напомним, Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, возглавившему Наманганский отдел (уезд), было тогда лишь 32 года!
Взятие Коканда после победы в Махраме не составило особых проблем для Кауфмана. Помимо восстановления прав торговли русского купечества, к Туркестанскому губернаторству присоединялся правый берег Сырдарьи с городами Чует и Наманган. Кокандские события укрепили веру кочевников в неуязвимость и непобедимость Скобелева. На поле боя он появлялся в белой форме и на белом коне, поэтому прозвище «Ак-паша» навсегда закрепилось за ним даже раньше, чем Скобелев получил генеральское звание. Оно стало его настоящим боевым титулом и с тех пор навсегда сопутствовало Михаилу Дмитриевичу. В дальнейшем «Белым генералом» называли его и сподвижники, и недруги, и воинственные кочевники, и янычары, и ожидающие освобождения от турецкого гнета болгары…
ГУБЕРНАТОР СКОБЕЛЕВ
В январе 1876 года генерал-майор Скобелев выдвинулся к Андижану, одному из древнейших городов Ферганской долины, который некогда был важным экономическим центром Великого Шелкового пути. Здесь вспыхнуло очередное восстание кипчаков. Скобелев снова сам водил войска в атаку, действуя смело, напористо, поскольку знал, что длительный огонь артиллерии кочевники выдерживают, не занимать им было храбрости и в кавалерийских схватках, а вот мощный напор русского штыкового боя был для них страшен.
Скобелев подошел к Андижану. Против 20 000 воинов противника у него в отряде было лишь 2 800 человек. Дважды «Ак-паша» предлагал защитникам Андижана сдаться и дважды получил отказ. Тогда русские начали тотальный обстрел города из пушек, а после артподготовки в крепость ворвалась пехота. Андижан был взят, но вожди повстанцев сумели ускользнуть и укрылись в городке Асаке. Скобелев, памятуя наказ Суворова «Быстрота и натиск!», вновь посадил пехоту на арбы и помчался вдогонку. Стремительный бросок застал кипчаков врасплох. После непродолжительного боевого противостояния мятежники сдались на милость победителя. В плен попали и вожди восстания во главе с Абдуррахманом-автобачи. Кокандское восстание было окончательно подавлено. За успешные действия под Андижаном и Асаке Михаил Дмитриевич был награжден Орденом святого Георгия 3-й степени и Золотым оружием «За храбрость».
Итак, судьба Коканда была решена. Указом Александра II Кокандское ханство упразднялось, а его территория преобразовывалась в Ферганскую область, которая вошла в состав Туркестанского генерал-губернаторства. Первым губернатором области и начальником войск, располагавшихся в его пределах, был назначен Михаил Дмитриевич Скобелев. Сохранилось содержание разговора правителя канцелярии Туркестана генерала Андрея Ивановича Гомзина с фон Кауфманом: «Не рискованно ли было… назначать на ответственный административный пост слишком ретивого кавалериста?», – спрашивал Гомзин. Кауфман ответил: «А вот и сделаем опыт, авось этот кавалерист нас не осрамит».
Скобелев не осрамил. Он энергично приступил к административным обязанностям, обустроив регион по примеру российских губерний: разделил Ферганскую область на уезды, создал канцелярии, формировал городское хозяйство. Скобелев принимал просителей по любым вопросам с раннего утра, оперативно разрешая все проблемы.
Военный историк и писатель Борис Акимович Костин, автор книги о Скобелеве, писал:
«Скобелев выступил как отменный дипломат. Он не раздумывая смещал вождей, которые безвольно следовали порывам толпы, задабривал лояльную знать, оберегал права дехкан, жестоко карал подстрекателей. К удивлению высшего мусульманского духовенства, ожидавшего расправы за то, что оно в ходе боевых действий подогревало страсти, Скобелев не стал вмешиваться в дела вероисповедания. Остались неприкосновенными и традиции разноплеменного края».
Конечно же, в Фергане было навсегда отменено рабство, налоги взимались упорядочено, с помощью русских военных инженеров строились арыки, дороги, караванные пути отныне были взяты под охрану и сразу стали безопасны… Константин Петрович Кауфман сообщал в столицу Империи:
«Михаил Дмитриевич занимается серьезно своим делом, вникает во все, учится и трудится… Народ, кажется, доволен своим теперешним положением…».
Если народ был доволен, то недоброжелатели Скобелева не могли успокоиться, поскольку он строго следил за снабжением своих подразделений и не давал интендантским чиновникам наживаться на солдатской казне. В Петербург полетела кляуза, в которой Скобелев овинялся в злоупотреблении властью и финансовом мошенничестве. Михаил Дмитриевич взял все документы и отправился в столицу России, где предъявил необходимые бумаги в Государственный контроль. Тщательная проверка установила: генерал Скобелев кристально чист, он ведет дела в полном соответствии с законом и в интересах империи. Костин пишет о том, что в Ферганской области стал общеизвестным факт, когда Скобелев продал собственное имущество, на вырученные деньги купил землю, построил на ней кишлак, провел к нему арык и поселил часть беднейших семей. Таково было губернаторство «Ак-паши». Однако, став высокопоставленным чиновником, Скобелев прежде всего оставался талантливым и опытным военным стратегом, хорошо разбиравшимся в мировой политической обстановке.
ЭКСПЕДИЦИЯ В АЛАЙСКУЮ ДОЛИНУ
Михаил Дмитриевич, как военный стратег, был уверен, что России необходимо продвигаться на юг Ферганского региона, перевалив через Алайский хребет. Дело в том, что такое проникновение остудило бы пыл британцев, которые вынуждены были бы признать, что в случае войны с Россией на их индийские колонии русские полки могут буквально «свалиться с гор». Кстати говоря, план «Индийского марша», разработанный Скобелевым, позже обсуждался на самом высоком уровне. Да и южные границы Ферганской области необходимо было очертить как можно полнее и тщательнее, поэтому Скобелева ждала новая военно-научная экспедиция – в район Алайской долины, в предгорья Памира. Борис Костин в книге «Скобелев» так описывает начало экспедиции: «В «Туркестанских ведомостях» от 30 августа 1876 года говорилось, что К. П. Кауфман «приказал генералу Скобелеву двинуть небольшие отряды к горам, коим занять главнейшие выходы из гор в долину и идти с главными силами в восточную часть гор». Скобелев спешно, но без суеты, снарядил, подготовил и лично возглавил экспедицию за Алайский хребет. Он вел свой отряд по тропам, по которым доселе не ступала нога русского человека… В его составе было всего лишь восемь рот пехоты, четыре сотни казаков, три горных орудия и ракетная батарея».
Конечно, путь был очень труден. Отряд Скобелева взбирался на недоступные высоты, скользил вниз, нарывался на засады и сражался с «немирными» горцами. Целью Скобелева был аул Гульчи, где жила так называемая «Алайская царица», женщина-полководец Курбанджан-датхо. Она управляла непокорными и воинственными племенами кара-киргизов, которых опасались даже кипчаки и кокандцы. Навстречу русским выступили горцы во главе с Абдуллой-беком, сыном датхо. Он встретил отряд Скобелева в местности Янгы-арык и был готов к сражению. «Ак-паша», прекрасно изучивший во время поездки в Испанию методы партизанской войны в горах, пошел на хитрость. Он начал имитировать атаки на кара-киргизов, а между тем специальные отряды русских тайно обошли противника с флангов. Абдулла-бек с пренебрежением взирал на попытки противника достать его, считая свою позицию неприступной. Но вдруг русские появились с флангов, сзади, даже сверху: передовые отряды взобрались на скалы. Сын женщины-генерала увидел, что его победили почти без боя. Проклиная «Ак-пашу», он вместе с отрядом бросился горными тропами прочь. Абдулла-бек ушел в Афганистан, оставив без защиты аул Гульчи, где ждала его с победой Курбанджан. Узнав, что Абдулла потерпел поражение и бежал, она поспешила вслед за сыном, но попала в плен к разбойникам-китайцам. Головокружительные приключения завершились атакой казачьего разъезда, посланного Скобелевым преследовать Абдуллу-бека. Казаки отбили у китайцев Курбанджан-датхо, и Скобелев учтиво приветствовал «алайскую царицу» в своем расположении!
Не менее важным, чем выход в Алайскую долину и уточнение границ руских владений в Туркестане, было и научное изучение гор Памиро-алайской системы. Рядом с воинами работали топографы, метеорологи, картографы, этнографы. Местность изучалась ими широко и всесторонне. Вместе со Скобелевым шел еще один знаменитый сын Рязанской земли, путешественник, ученый и натуралист Василий Федорович Ошанин. Он обстоятельно изучал природу Туркестана, для чего поселился в этом краю, работал заместителем школы шелководства в Ташкенте. Надо отметить, что в Средней Азии Ошанин пробыл более 30 лет, до 1906 года! Василий Федорович в составе научного подразделения отряда Скобелева пересек Алайский хребет через перевал Арчатдаван и вышел в восточную часть Алайской долины. Здесь он отделился от экспедиции и направился вниз по долине, пройдя ее с востока на запад до устья реки Коксу, затем поднялся на перевал Караказык и вторично пересек Алайский хребет. И если один рязанец, Михаил Дмитриевич Скобелев пришел в Алайскую долину как воин, то другой наш земляк, Василий Федорович Ошанин, будучи ученым, первым из европейцев осмотрел Алайскую долину и дал ее подробное физико-географическое описание.
Что касается «царицы Алая» Курбанджан-датхо, то она, как пишет биограф «Белого генерала» Борис Костин,
«первой протянула руку и попросила Скобелева быть «тамыром», другом. Надо полагать, что жест этот не остался без ответа. Генерал покидал южную Киргизию в твердой уверенности, что границы российских владений, к слову, получивших реальные очертания, останутся незыблемыми и неприкосновенными. Курбаджан-Датхо с готовностью откликнулась на предложение принять русских купцов и обязалась соблюдать их интересы. Свое обещание правительница сдержала. За те две недели, которые провели подчиненные Скобелева во владениях царицы Алая, они сумели обучить киргизов незнакомой им ранее науке косьбы. С этого момента она прочно вошла в их быт».
В результате похода Скобелева Алай был присоединен к России, а образованными здесь волостями, вошедшими в состав Ошского уезда, управляли сыновья Курбанджан-датхо. Она дала «Ак-паше» обещание, что пока живет, будет соблюдать на Алае мир и покой. Кроме того, датхо объявила о присоединении кара-киргизов к русскому народу, к России. Позднее в честь генерала Скобелева на Алайском хребте был назван пятитысячник – сейчас это пик Скобелева (5051). Здесь также есть и перевалы, названные по имени «Белого генерала». Один – «Перевал Скобелева», другой – «Седло Скобелева».
В сентябре 1876 года Скобелев вернулся из похода и продолжил свою губернаторскую деятельность в Ферганской области. А в это время время росло напряжение на Балканах, и, предчувствуя новые битвы, «человек войны» Скобелев заявляет в письме своему начальнику, фон Кауфману, что будет служить, где тот потребует, но должен предупредить, что его «душа и мысли будут там, где будут греметь наши пушки». Скобелев, словно опытный артиллерист, буквально бомбардирует Санкт-Петербург письмами с одной лишь просьбой – направить его на Балканы. Александр II не устоял перед напором «Белого генерала». В результате последовал приказ: «Генералу Скобелеву высочайше повелено немедленно прибыть в Петербург для направления в действующую армию». Скобелева ждала русско-турецкая война, Болгария и бессмертная слава.